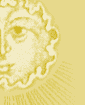Художественно-мемориальный музей К.С.Петрова-Водкина (филиал Радищевского музея в Саратове) со дня основания заложил традицию устроения тематических выставок (хотя бы одной-двух в год) из своих фондов, чтобы знакомить со своей коллекцией не только посетителей музея, но и молодых музейных сотрудников.
12 декабря 2009 года состоялось открытие одной из таких выставок «К зиме повёрнута планета».
Представленные на ней работы (хотя их немного – 34) охватывают довольно большой временной период с конца 1950-х до начала 2000-х, т.е. более сорока лет. Казалось бы, работы разделяет не только временная дистанция, но и разные направления: от реалистического (В.О.Фомичёв «Первый снег» 1958 г.) к лаконичному конструктивному, с «отблесками суровости» (Л.Ф.Селизаров «На Неве» 1962 г., В.Ф.Копыркин «Ноябрь» 1963 г.), от декоративных приёмов и интонаций, близких лубку (В.А.Лобов «Зимушка», 1963 г., Б.И.Давыдов «Новый год» 1980 г.) к форсированному цвету (Ю.В.Кондратьев «Зимний город» 2000 г.) и импрессионистической фактуре Ю.Т.Карякин «Март» 1987 г.), от почти графического, с равновесием в распределении тёмных и светлых пятен (Н.Н.Галахов «Гавань зимой». 1960-е) и плоскостных членений композиции, присущих авангарду (В.С.Гуляев «Город, в котором живу» 1999 г.) к тональной живописи (И.А.Кучма «Первый снег» 1960 г.). И, несмотря на разность почерков, приёмов и средств выразительности, используемых художниками, экспозиция явила нам глубинное единство культуры второй половины ХХ века. Мы смогли убедиться в справедливости такого термина как «внутренняя форма культуры» (понятие «внутренней формы» заимствовано из языкознания, где оно апеллирует к образной интуиции, выявляющей единый исходный смысл однокоренных слов, которые в речевой практике свою смысловую связь утратили или существенно ослабили).
В статье «Молния и радуга: пути культуры 60-80-х» («Волга». 1990, №8) А Кобак и Б.Останин, описывая духовные доминанты в культуре 60-х и 80-х годов, использовали в качестве отправного пункта для размышлений метафоры молнии и радуги: молнию они соотнесли с 60-ми годами, а радугу – с 80-ми: «Молния проста, одноцветна, энергична, мгновенна. Она предполагает упрощение сложности и является собой, с одной стороны целенаправленную волю, с другой – эмоциональный импульс... радуга сложна, многоцветна, упорядочена. Это гармонический организм, вбирающий в себя зримый состав всего мира…». И всё же при всём несходстве радуги и молнии они - «дети» одного атмосферного явления – дождя, который и является «внутренней формой культуры», той «временной патиной», объединяющей столь разные работы. Её трудно сформулировать, но интуитивно можно почувствовать. Если всё же попытаться выразить эту «внутреннюю форму культуры» второй половины 20 века, проявленную в культуре и в пейзаже в частности – это поэтизация скромных мотивов «малого отечества», восстановление утраченной гармонии.
В конце 1950-х – начале 1960-х художественная молодёжь «оттепели» (а большинство художников, чьи картины представлены на выставке, только начинали свою творческую биографию в те времена) заговорила о России не как площадке грядущего рая строителей коммунизма, а как «земле людей», где природу можно не только «преображать», но лирически с ней общаться, обнаруживая множество граней и обертонов, где возможно единство человека и природы. Неслучайно историки искусства отмечают конец 1950-х временем оживления пейзажной живописи, в которой особую роль играет введение жанровых мотивов. Почти во всех представленных пейзажах встречаешь фигурки людей, занятых текущими делами. Эти фигурки не дополнение, но одно целое с окружающей средой (Н.М.Ромадин «Снегопад» 1964 г., В.А.Лобов «Зимушка» 1963 г., К.А.Титов «Счастливая лунка» 1962 г.). Эта «внутренняя форма культуры» проявилась всюду, например, неслучайно именно в эти годы возникло такое направление в литературе, как деревенская проза, связанная с обращением к традиционным ценностям, звавшая восстановить утраченную связь с землёй, создавшая в литературе ряд типов, дающих понимание того, что есть русский характер и та самая «загадочная русская душа».
Крупномасштабной выставочной картине 1930-х – 1950-х годов с её непременной «законченностью» и эффектами помпезности и риторики противопоставляется раскованное свободное живописание (В.В.Гольцев «На водопой» 1964 г. М.А.Егорова «Москва зимняя. Масловка» 1963 г.) или просто этюды (Г.В.Ардаков «К весне» 1961 г., Н.В.Климашин. «В котловане Саратовской ГЭС» 1968 г.), где главным критерием качества была искренность в выборе натурного мотива и полнокровность живописно-пластического высказывания. В этих работах метод умирает в природной органике любимого образа, во всём многообразии его переменчивых состояний. Художники обращаются к более широкому кругу живописных традиций, забытых приёмов, обнаруживая историзм мышления, не отрывающий мгновения от вечности, настоящего – от прошлого. Заново прочитываются ими полотна «Союза русских художников», привлекают внимание и семидесятые годы 19 века – периода расцвета русского пейзажа, где сложились те заветы, которые не уводят от натуры, настаивая на её изучении, но, тем не менее, трактуют пейзаж как искусство творимое воображением и памятью художника (А.И.Тутатчиков «На ночлег» 1960 г.), где принципы пленэризма сочетаются с умением соединить в художественном образе реальное и отвлечённое, изучение натуры и творчество (Б.П.Шагин «Старая церковь» 1961 г., И.Е. Комиссаров «Весенние сумерки» 1963 г.).
А.Кобак и Б.Останин, продолжая сравнение 60-х и 80-х годов, называют людей молнии «людьми угла» («Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал…»), а людей радуги – «любителями овалов». На выставке «К зиме повёрнута планета» художников молнии и радуги объединил, как в круге с вписанным в него равносторонним треугольником, общий центр – интерес «к родному пепелищу», «где был любим, где отчий дом».
В.И.Бородина