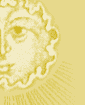23 августа в Михайловском (Инженерном) замке Русского музея открывается выставка «Религиозный лубок». Это первая экспозиция, специально посвященная духовной народной картинке. На ней представлено около 100 произведений графики второй половины XVIII – начала XX века из собрания Русского музея. Большинство уникальных гравюр и литографий экспонируется впервые. Впервые в музейной практике духовный лубок будет представлен вместе с аналогичными ему по иконографии и стилю произведениями иконописи и народного прикладного искусства. Экспонаты снабжены подробными интерактивными комментариями.
Конец XVIII и первая треть XIX столетия стали эпохой расцвета русской народной картинки. Духовная народная картинка того времени стремилась к воспроизведению иконографии и стиля допетровских иконописных памятников. Лубочные «списки» с чудотворных образов были востребованы в крестьянской среде, представители которой не могли позволить себе дорогостоящие иконы.
Чаще всего на лубочных картинках воспроизводились Богородичные иконы, Распятие и Воскресение, Полница (двенадцать церковных праздников с Воскресением в среднике), а едва ли не самым популярным сюжетом был Страшный суд. Из западноевропейских по происхождению оригиналов крестьянская и низовая городская среда предпочитала эпизоды Священной истории, разнообразные душеполезные притчи, картинки с изображениями чертей и загробных мучений. Такие гравюры сопровождались пространными пояснительными подписями. Их внимательно рассматривали, читая удивительные и захватывающие истории.
Представление простого неграмотного мужика о сюжете народных картинок бывало смутным. Лубки с изображениями сказочных богатырей Бовы Королевича и Еруслана Лазаревича порой помещали рядом с красным углом и зажигали перед ними восковые свечи. В отдаленных деревнях лубочная картинка исполняла роль «народной газеты». Благодаря лубку там узнавали об открытии мощей, мироточении икон, канонизации и чудесах святых угодников.
Для крестьянина лубочные картинки были достаточно дороги. Даже листы стоимостью в одну копейку доставались ему ценой усердной экономии. Поэтому лубки чаще встречались в зажиточных домах и почитались как явление более высокой, «барской» культуры. В поэме Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» крестьянин при пожаре в первую очередь спасал лубки: «Скорей бы взять целковые, а он сперва картиночки стал со стены срывать».
Народная картинка первой трети XIX века ориентировалась на постоянное самовоспроизведение: бесконечное повторение иконографии, мотивов, ремесленных приемов. От копии к копии терялись признаки стиля первоначального образца, позволявшие идентифицировать его с тем или иным автором. Ситуация тотальной анонимности обыгрывалась в выкриках разносчиков лубка – офень: «А вот Антипка рисовал, Степка малевал, Иван на полене насекал, тетка Арина колесом давила, а добрый человек покупает, горницу украшает и всех красотой удивляет…»
К 20-м годам XIX века в народной гравюре сформировался фонд универсальных изобразительных приемов, которые во многом определили характерный и легко узнаваемый лубочный стиль. Почти для любого предмета существовали свои правила изображения: земля обозначалась волнистыми линиями с травянистыми щеточками, листья деревьев – ромбами и заостренными овалами и т.д. Поэтому основная цель обучения лубочному мастерству заключалась не в освоении системы академического рисунка, а в овладении определенным набором ремесленных приемов.
Характерным отличием лубка от профессиональной гравюры была его полихромность. Использование цветных красок не всегда объяснялось эстетическими мотивами. От частого использования печатные доски стирались почти добела. Их поновляли по контурам рисунка, а образовавшиеся пустоты заполнялись цветными пятнами. «Иллюминовка» картинок стала кустарным промыслом. Как правило, им занимались женщины и дети. В первой половине XIX века «цветили» минеральными красками: оранжевой, желтой, зеленой. Позднее, с появлением анилиновых красителей, в лубочной гамме стали преобладать вишневый и сиреневый.
От тщательности раскраски зависела цена листов. Лубки, размалеванные «по носам», то есть, пятнами, не всегда соотносящимися с рисунком, стоили дешевле. С увеличением тиража раскраска становилась все более небрежной. Такой лубок описывал Николай Гоголь в повести «Портрет»: «…город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах».
В 1830-40-е годы в лубочное производство стала входить новая печатная техника – литография. Она позволила повысить тиражи картинок в сотни раз. Производство и торговля лубками стала очень выгодным делом, приносившим солидную прибыль.
История народной картинки второй половины XIX столетия перестает быть анонимной. После утверждения в 1851 году нового устава о цензуре все владельцы мастерских обязательно указывали на лубочных листах свои имена, имена цензоров и дату выпуска. Во второй половине 1860-х годов в основном завершился начальный этап монополизации и укрупнения лубочного производства. На первый план выдвинулись наиболее успешные предприниматели: А.В. Морозов, А.А. Абрамов, И.А. Голышев. Каждый из них имел целую сеть распространителей, разносивших лубки и по большим городам, и в отдаленные уголки России.
В конце XIX века история русской народной картинки сделала еще один решительный поворот, связанный с революцией в полиграфической промышленности: появлением цветной печати. Массовое изготовление многокрасочных картинок (хромолитографий) требовало значительного штата и нового оборудования, что было под силу только крупным предприятиям. Образовывались настоящие монополии (например, Товарищество И.Д. Сытина), поглощавшие менее удачливых конкурентов.
Достижения новой техники избавляли лубочного художника от кропотливого ремесленного труда, и на смену определенному набору иконографических вариантов пришло неограниченное разнообразие. В сферу лубка попало все мировое художественное наследие: от шедевров эпохи Ренессанса до салонных художников начала ХХ века. Воспроизводя особенности академической живописи в меру своего понимания, лубочные литографы невольно превращали их в курьез: чувственно округляли объемы, подрумянивали щеки и губы, подводили контуры глаз.
Новомодные хромолитографии вытесняли обычные литографированные лубки. Они все чаще встречались в зажиточных крестьянских домах Петербургской губернии, в бедных приходских храмах. Их использовали как классное пособие на уроках Закона Божия в школах. Прижились они и в фабрично-заводской среде, став почти обязательной принадлежностью красного угла в жилище рабочих. Однако дальнейшее развитие истории русского духовного лубка было прервано Октябрьской революцией.